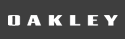|
|
||||||||
| |||||||||
|
| Наша жизнь вне Форума любые темы и идеи |
 |
|
|
Параметри теми | Пошук у темі |
|
|
#301 (посилання) |
|
Всегда на форуме
Зараз: поза форумом Звідки: Terra
Снаряга: Форт-14Р(для начала)
|
Кто-то из командиров крикнул: "Раненые есть?"
Тишина. Никто не откликнулся – хорошо. Еще крик: "Раненые есть!?" Тишина. Тревога "а вдруг кого-то задело", быстро таяла – бой закончился, и в ближайшие час-два вряд ли начнется. И тут крик: "Есть раненые... Есть раненые!" Сразу волнение и суета вступают в свои права. Кто-то бежит за помощью, кто-то кричит: "Сколько? Тяжелые?" Я хватаю камеру и, включая ее на ходу, бегу на голос. Как назло, опять начинают стрелять, поэтому не добегаю до переднего края и приседаю возле колонны, метров за десять от раненого. Возле него суетятся человек пять-шесть, значит, моя помощь не нужна. Боец рядом со мной, увидев видеокамеру, шипит, как мне кажется, с ненавистью: "Иди... иди отсюда... иди... со своей камерой. Уйди, убьют". Я продолжаю снимать, не обращая внимания: стандартная ситуация, не в первый раз отсылают, и пока нет явной агрессии, я не отсылаю в ответ. Видно плохо, в терминале темно и пыльно. Двое бегут за носилками, возле раненого остаются четверо, что-то долго возятся, но все-таки поднимают его и несут к медику. Пробегают возле меня, кто-то из них кричит мне – слышу, чувствую по голосу: я для него как предатель – "Снимаешь?!.. Да помог бы лучше..." Я хватаю раненого за ногу. Кто-то рядом со мной кричит: "Прикрывай!" – и боец, возле которого мы пробегаем, пускает длинную очередь из пулемета. Мы, уже не пригибаясь, бежим к доктору. В который раз я понял, что жизнь не помещается в рамки кино: у меня не было возможности выбирать ракурсы, и нельзя было не помочь раненому, поэтому я просто повернул работающую камеру и снимал нашу пробежку. Мы принесли его в комнату, где все пьют чай, положили на пол, и я понял, почему так долго возились возле него бойцы. У него не было обеих рук, и на обрубки нужно было наложить жгут. Потом я увидел, что одна рука все-таки есть, но она лежала рядом, почти оторванная от тела, и когда ее привязывали к туловищу бинтом, было понятно, что руку все равно отрежут. Узнали, что раненого зовут Терещенко, и что он, кажется, из той же 79 бригады. Он лежал на полу, был в сознании, и спросил: – Я никого не подвел? – Ты никого не подвел, ты никого не подвел. Все будет хорошо, все будет хорошо. – Рукам больно... – Потерпи, потерпи. Все будет хорошо, все будет хорошо. Вот эти повторы, как будто говорили с ребенком, поразили больше всего. Привели еще одного раненого – тяжелая контузия, потом еще одного, тоже с тяжелой контузией, он лежал на полу и говорил, что хочет плакать. Рядом сидел боец, держал его за руку и говорил: – Поплачь, поплачь, легче будет. В это время Терещенко кололи очередную порцию обезболивающих, бинтовали обрубок левой руки, и привязывали то, что осталось от правой, к туловищу. Вчетвером мы понесли его к броневику. Опять началась пальба из автоматов и гранатометов – целились, скорее всего, по БТР-у. Водитель занервничал или что-то напутал и отъехал на несколько метров в сторону. Сразу полдесятка человек дружным криком вернули его на место. Так получилось, что Терещенко нужно было загружать в машину мне и еще кому-то, лишние люди просто мешали. Тот, кто был внутри БТР, не понял, что нужно помочь, или просто растерялся, и мы замешкались у открытого люка. Вокруг стреляют, кто-то кричит: быстрее, быстрее, быстрее. И тут случилось то, что как-то связало меня и Терещенко. Он был в сознании, понял, что задержка, и стал помогать мне, как мог. Рук у него не было и ногами он отталкивался от борта, чтоб просто упасть головой вниз в нутро машины. Кто-то поддержал его изнутри за плечи, я закинул его ноги внутрь, кто-то рядом захлопнул дверцу. Я не видел, как отъехал БТР, потому что уже бежал по терминалу, понимая, что пока стоит броневик, он закрывает меня от пуль и осколков. Отсюда |


|
|
|
#302 (посилання) | |
|
рандоннер
Зараз: поза форумом Звідки: оттттуда :)
Снаряга: Elan Magfire 14-168см; Salomon Shogun-191см; Armada AKJJ-195см; Salomon Quest 14; GT Karakoram 2.0
|
Цитата:
|
|


|
|
|
#304 (посилання) |
|
The Last Boyscout
Зараз: поза форумом Звідки: Kharkov, UA
Снаряга: Elan Magfire 10 Fusion
|
Тот клятый год уж много лет, я иногда сползал с больничной койки.
Сгребал свои обломки и осколки и свой реконструировал скелет. И крал себя у чутких медсестёр, ноздрями чуя острый запах воли, Я убегал к двухлетней внучке Оле туда, на жизнью пахнущий простор. Мы с Олей отправлялись в детский парк, садились на любимые качели, Глушили сок, мороженное ели, глазели на гуляющих собак. Аттракционов было пруд пруди, но день сгорал и солнце остывало И Оля уставала, отставала и тихо ныла, деда погоди. Оставив день воскресный позади, я возвращался в стен больничных гости, Но и в палате слышал Олин голос, дай руку деда, деда погоди… И я годил, годил сколь было сил, а на соседних койках не годили, Хирели, сохли, чахли, уходили, никто их погодить не попросил. Когда я чую жжение в груди, я вижу как с другого края поля Ко мне несётся маленькая Оля с истошным криком: « дедааа погодии…» И я гожу, я всё ещё гожу и кажется стерплю любую муку, Пока ту крохотную руку в своей измученной руке ещё держу. Леонид Филатов (После тяжёлой операции он мог умереть, но в его жизни была маленькая внучка Оля, ради которой он ещё несколько лет прожил.… ) |


|
|
|
#310 (посилання) |
|
рандоннер
Зараз: поза форумом Звідки: оттттуда :)
Снаряга: Elan Magfire 14-168см; Salomon Shogun-191см; Armada AKJJ-195см; Salomon Quest 14; GT Karakoram 2.0
|
Ребенок из школы на Донбассе: «Мама, мы всё равно умнее «новороссов», мы решили, что будем учиться, чтобы стать сильнее»
 Ребятки, не поленитесь, прочитайте. Там не так уж и много текста, но он реально цепляет! Это кусочек жизни наших патриотов, оставшихся в этом кошмаре, на временно оккупированных территориях! А главное, это кусочек жизни, не по годам повзрослевших деток! Трудно представить, что свалилось на их плечи, головы, души, сердца... Но они верят и не падают духом! Они маленькие, но взрослые! И они тоже герои! Елена Степовая тоже осталась там, но то, что она делает, это не просто посильный вклад, это подвиг - ЕЁ подвиг! Её страничка в ФБ https://www.facebook.com/olena.stepova п.с. Сорри. Чёт мне и правда как душу на изнанку вывернули.  |


|
 |
Є непрочитані сторінки Головна Новi |
| Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1) | |
|
|
|
При цитуванні гірськолижного форуму на інших ресурсах, активне посилання на extreme.com.ua обов'язкове.
|